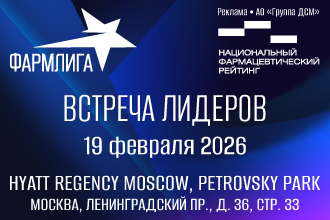8 вопросов нейрохирургу о профессиональном пути, сложных случаях и медицинских инновациях

22 июля в мире отмечается День головного мозга. Этот праздник не появился бы без врачей, занимающихся одним из сложнейших направлений в медицине – нейроонкологией. Поговорить о подходах к терапии, судьбах пациентов, и пути в профессию мы решили с одним из ведущих российских экспертов в этой области – Али Хасьяновичем Бекяшевым, профессором кафедры нейрохирургии Российской медицинской академии последипломного образования, руководителем нейроонкологического отделения НМИЦ онкологии имени Блохина.
Нейроонкология – направление в медицине, которое занимается диагностикой и лечением опухолей головного и спинного мозга, имеющих как злокачественную, так и доброкачественную природу. Нейрохирургия – смежная с нейроонкологией область, которая концентрируется на оперативном лечении.
1. Али Хасьянович, как и почему вы выбрали это направление медицины?
Я окончил среднюю школу в Ростове-на-Дону. На выпускном вечере учителя устроили для нас концерт под названием «Мы из будущего», в ходе которого каждого выпускника торжественно вызывали на сцену. Директор шуточно представил меня словами: «Итак, встречайте, с международного конгресса по нейрохирургии из Нью-Йорка к нам прибыл профессор Бекяшев».
Я, хоть и хотел стать врачом, в тот момент и понятия не имел, что такое нейрохирургия. В моих планах было стать абдоминальным хирургом. Окончив школу с серебряной медалью, я был абсолютно уверен, что передо мной все двери медицинских вузов открыты. Но Ростовский медицинский институт в ряды будущих медиков меня не принял – не хватило одного балла.
Я решил пойти работать по объявлению, которое увидел в мединституте: требовался санитар в операционную нейрохирургии. Других ставок не было, видимо в тот год немало абитуриентов провалились, и они опередили меня, устроившись на более простую санитарскую работу.

Так я попал в операционную нейрохирургии еще до начала учебы в мединституте. Выполняя все, что от меня требовалось, я старался смотреть, что делают врачи. На тот момент до конца оценить, насколько великолепно и блистательно выполнял операции мой будущий учитель и наставник Владимир Архипович Молдаванов, я не мог, но истинное искусство умом не познается, оно пронизывает душу, и, наверное, навсегда захватывает ее. У меня появилась мечта, для реализации которой требовались силы, усидчивость, тщательная подготовка.
Отработав год санитаром, я поступил в мединститут, где на шестом курсе в субординатуре мы с одногруппником организовали экспериментальную операционную, в которой можно было оперировать под микроскопом. Покупали лабораторных мышей, проводили операции на сосудах. Ни одна мышка не погибла: мы интубировали, вводили наркоз, разрезали и сшивали аорту, накладывая на крошечном сосуде швы нитками толщиной не больше человеческого волоса. Несмотря на то, что учился я в «лихие 90-е», когда многие занимались чем угодно, только не медициной, мне удалось не сойти с выбранного пути.
После окончания мединститута я начал работать в отделении нейрохирургии в областной больнице. Навыки, отработанные на мышиных сосудах, пригодились. Я работал в группе микрохирургов, занимавшейся реплантацией (пришиванием) оторванных конечностей – такие травмы дети и взрослые часто получали на полях. Мы достаточно хорошо справлялись, спасая людей, восстанавливая функции рук и ног.
Мне хотелось большего, для чего пришлось переехать в Москву. Следующий этап – аспирантура и докторантура в институте нейрохирургии Бурденко, где мне посчастливилось работать вместе с великим нейрохирургом, академиком Александром Николаевичем Коноваловым. Это наш современник, великий ученый, который готов делиться своими уникальными хирургическими навыками и умениями, а также глубокими познаниями, причем не только в нейрохирургии, но и в живописи, искусстве, литературе. Работа в НИИ нейрохирургии им академика Н.Н.Бурденко позволила получить огромный хирургический опыт.
Но, как говорится, хирург без науки — это просто ремесленник. Основополагающий фактор успешной нейрохирургии — это активная научная деятельность, участие в конференциях, конгрессах, знание современных международных исследовательских и лечебных протоколов. Этому я тоже уделял внимание. На одном из научных мероприятий два академика – А.Н.Коновалов и М.И.Давыдов (бывший директор Онкоцентра имени Блохина) предложили продолжить трудовую деятельность в стенах онкоцентра Блохина.
Сегодня НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина, возглавляемый академиком РАН И.С. Стилиди, — флагман современной онкологии. Наше отделение нейроонкологии конкурирует с лучшими мировыми профильными медицинскими нейроонкологическими клиниками и по праву занимает ведущую роль в лечении пациентов с опухолями головного и спинного мозга.
2. С какими опухолями попадают в нейрохирургическое отделение?
Все опухоли головного и спинного мозга подразделяются на две большие группы. Это первичные опухоли, которые развиваются из клеток мозга, оболочек головного мозга, оболочек нервов, и вторая большая группа — метастатические опухоли головного мозга, то есть опухоли, образовавшиеся из клеток, отделившихся от основного очага.
Если перенести на Россию данные канцер-регистра США, наиболее полной статистически обработанной базы о случаях онкозаболеваний, на которую ориентируется весь мир, то в нашей стране ежегодно должно выявляться около 10 тысяч первичных опухолей головного и спинного мозга и примерно 60 тысяч метастатических.
Около 70% первичных опухолей имеют доброкачественный характер, чаще всего это менингиомы – медленно растущие, в большинстве случаев, образования. Каждая третья первичная опухоль – злокачественная, например, глиобластомы – агрессивные и плохо поддающиеся системному лечению опухоли с плохим прогнозом для пациента.
Метастатические опухоли головного мозга – «айсберг», который еще не до конца изучен специалистами. Протокол терапии в таких случаях зависит от того, какая именно опухоль дала метастазы. Чаще всего в головном мозге обнаруживаются метастазы рака молочной железы, рака легкого, меланомы, гораздо реже – метастазы колоректального рака или рака почки.
В целом первичную стратегию лечения любого образования определяет мультидисциплинарный нейроонкологический консилиум, который должен включать в себя онколога, нейрохирурга, химиотерапевта, рентгенолога и радиолога.
3. Как обнаруживают опухоли головного мозга и как можно их у себя заподозрить?
Первое, на что обращает внимание человек, у которого появилось что-то новое в его состоянии, это может быть либо общемозговая, либо очаговая симптоматика. Общемозговая – это головная боль, головокружение, тошнота, рвота. Очаговая – слабость в руке, онемение в руке или в ноге, которые могут быть как кратковременными, так и нарастающими. Среди других проявлений: речевые расстройства, асимметрия лица, поперхивание, снижение остроты зрения, нарушение мочеиспускания.
Это те маленькие звоночки, которые заставляют пациента идти к неврологу. Этот специалист, оценивая неврологический статус, рекомендует уже дообследование. «Золотой стандарт» при подозрении на опухоль головного мозга – магнитно-резонансная томография с контрастным усилением. Если пациент уже лечится по поводу злокачественной опухоли, например, рака молочной железы, легкого, меланомы, то онкологи обязательно направляют его на МРТ, чтобы вовремя выявить метастатическое поражение головного мозга.
Нередко опухоли головного мозга обнаруживают случайно, например, при обследовании после черепно-мозговой травмы, внезапного эпилептического припадка или неожиданной потери сознания.
4. Обнаружение опухоли в головном мозге всегда требует оперативного лечения?
Для каждого вида опухолей существует свой стандарт лечения. Далеко не всегда речь идет только об операции. Опухоли могут затрагивать важные структуры головного мозга, обрастать нервы и магистральные сосуды. Полностью удалить опухоль, не навредив пациенту, не всегда возможно – хирурги действуют в пределах физиологической дозволенности, то есть удаляют ту часть опухоли, которую можно убрать без ущерба для здоровья. Остатки опухоли могут быть позже облучены радиологами на аппарате кибернож, гамма-нож, установках для стереотаксической лучевой терапии.
Большая часть пациентов с метастатическим поражением попадают в руки радиологов — специалистов, которые занимаются облучением. Сейчас мы активно используем и внедряем в практику технологии предоперационной лучевой терапии: пациенты с метастазами в головном мозге проходят один сеанс лучевой терапии, а в течение 48 часов после этого проводится операция.
Сегодня обязательным стало получение операционного материала – фрагмента опухоли – для проведения гистологического, иммуногистохимического, молекулярного исследований. Их результаты позволяют находить мутации, на которые могут действовать таргетные препараты – сравнительно новый класс лекарств, в некоторых случаях эффективно сдерживающих опухолевый рост и даже излечивающих от злокачественных опухолей.
5. Можно ли вообще не удалять опухоль?
Если речь идет о доброкачественных опухолях (менингиомах), то врач может наблюдать, а не делать операцию. Динамическое наблюдение допустимо, если опухоль имеет небольшие размеры и не дает никакой симптоматики. При наличии мягкой симптоматики можно обратиться за консультацией к радиологу, так как такие опухоли хорошо поддаются лечению с помощью стереотаксической радиотерапии.
Если опухоль большая, вызывает неврологические симптомы, то в этом случае ставится вопрос о хирургическом удалении. Без этого по мере роста опухоли зона раздражения коры головного мозга будет увеличиваться, риск развития эпи-припадков возрастать.
Однако терапия каждый раз подбирается индивидуально. Так, например, один из моих пациентов около 20 лет назад обратился с жалобой на осиплость голоса и головокружения – обследование выявило у него большую гломусную опухоль, образование доброкачественного характера. После консультации с Александром Николаевичем Коноваловым было принято решение наблюдать. Это наблюдение продолжается больше двух десятилетий: за это время пациент смирился с осиплостью, адаптировался к головокружениям, а опухоль увеличилась на 5 миллиметров.
При злокачественных опухолях наблюдательная тактика недопустима. Необходимо активное лечение, которое, повторюсь, не всегда будет оперативным – пациенту может быть показана химиотерапия, лучевая терапия, таргетные препараты.
6. Какие изменения в области нейрохирургии за последние годы можно назвать поистине революционными?
Таких изменений немало. Например, для диагностики используются МРТ, КТ в разных режимах, ПЭТ, которые дают возможность определить не только локализацию образования, то есть то место, где находится опухоль, но и его взаимоотношения с проводящими путями мозга, с двигательными, речевыми зонами — теми отделами мозга, которые крайне важны для нормальной жизнедеятельности человека. Уже в ходе диагностики можно понять степень злокачественности глиомы, или, например, степень кровоснабжения менингиомы, чтобы анестезиолог был готов к кровопотере.
Инновации помогают удалять опухоль, сохраняя высокое качество жизни, следуя принципу, заложенному Николаем Ниловичем Бурденко: «Пациент после операции должен быть в состоянии не худшем, чем до нее». Добиваться этого позволяют и технологии навигации, помогающие в режиме реального времени определять, какой объем опухоли еще нужно удалить, и эндоскопия, и применение мягкодействующих препаратов для наркоза, использование которых позволяет пробуждать пациента буквально через несколько минут после окончания операции.
Сегодня мы регулярно проводим операции с интраоперационным пробуждением, когда пациент во время хирургического вмешательства находится в сознании, выполняя определенные инструкции и беседуя с врачами. Это дает возможность удалить опухоль вне функциональных зон, сохранив речь, движение, качество жизни.
7. Опухоль головного мозга – это приговор?
Медицинские инновации меняют нейроонкологию. Например, появление таргетных препаратов позволяет пациентам с некоторыми видами глиобластом жить не 12-15 месяцев, а 3-6 лет.
Многие наши пациенты живут долго и счастливо, несмотря на онкологический диагноз. Мой учитель в Ростове-на-Дону еще в 1997 году оперировал семилетнего мальчика по поводу медуллобластомы – агрессивной злокачественной опухоли. По непонятным причинам лучевая терапия после операции не проводилась, а в 2001 году этот же пациент обратился с множественными метастазами в головном мозге: их удалось деликатно облучить в рамках курса стереотаксической лучевой терапии. В дальнейшем мужчине неоднократно пришлось проходить и лучевое, и химиотерапевтическое лечение, но параллельно он женился, стал отцом, живет полноценной жизнью, несмотря на то, что столкнулся со злокачественной агрессивной опухолью.
8. Что позволило вам стать тем, кем вы стали сейчас?
Мой учитель заложил три основных принципа, которым я следую по сей день. Первый – это делать работу по душе, любить ее, и тогда, как говорил Конфуций, работать не придется ни дня. Второй: все дается упражнениями. Хирургия — это титанический труд, и к нагрузкам, действительно серьезным, надо быть готовым.
Третий, тоже важный, касается отношения к тому, что ты делаешь. Есть известная притча про каменоломню, где три работника, перетаскивая камни, к одинаковой работе относились по-разному. Для одного она была способом заработать на хлеб для себя и семьи, для другого – возможность оплатить образование сыну, а третий считал своей целью воздвигнуть храм, который простоит века.
Всем молодым врачам, тем, кто начинает свой путь, я искренне желаю уверенно следовать за мечтой, находить в себе силы и время упражняться, стремиться к людям, которые будут делиться своими знаниями, опытом и своей энергией.
Беседовала Ксения Скрыпник
Фото: yourapechkin © 123RF.com